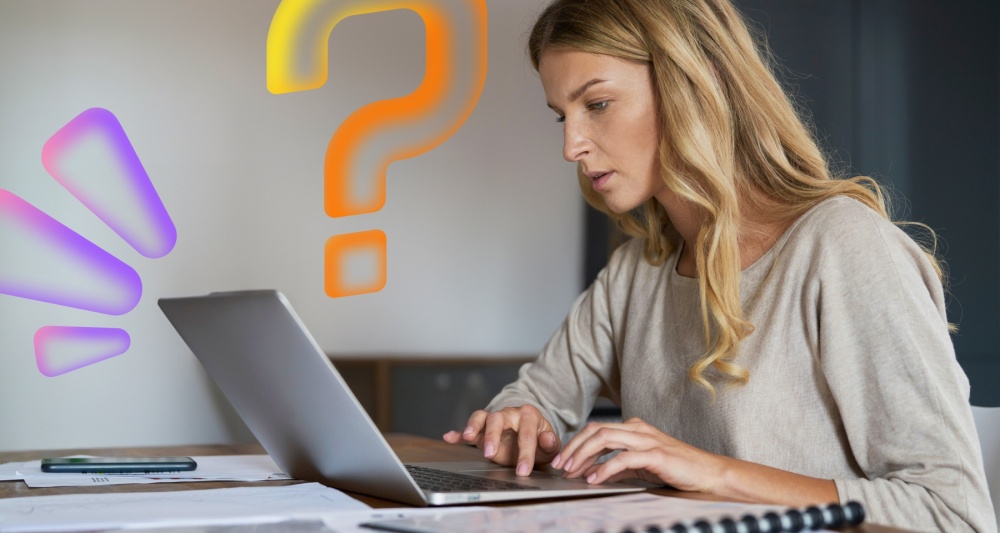Сегодня исполняется 11 лет дефолту. Конечно, дата не круглая, но символичная. Ведь сейчас самое время отметить годовщину другого кризиса — первого в этом тысячелетии. Формально он стартовал в сентябре прошлого года, фактически — в августе, который давно для нашей страны стал проклятым месяцем.
В 98-м все как неожиданно рвануло, так и резко сошло на нет. Более того, как показывают опросы, события тех дней у многих людей и вовсе стерлись из памяти.
С нынешним кризисом все не так. Он долго запрягал, сейчас быстро едет, и куда нас завезет — никому не известно. Вооружившись данными статистики, «Известия» выясняли, в чем же схожесть и различия обоих катаклизмов.
О текущем кризисе многим людям приходится себе периодически напоминать. Предыдущий затронул всех, разделив жизнь на «до» и «после». Как показал опрос Фонда общественного мнения (см. график), проведенный через год после дефолта, в 98-м году пострадавшими считали себя 90% населения.
Сейчас жертвами катаклизма назвались 54% опрошенных. Цифра тоже немаленькая, но многие (41%) утверждают, что проблемы их не коснулись вовсе. Все это совершенно логично. Нынешний кризис в отличие от своего предшественника нарастает постепенно. Его масштабы и разрушительное действие нам только предстоит оценить, когда он закончится. Тем не менее по прошествии года мы уже можем сделать кое-какие выводы и сравнения с дефолтом 1998-го.
Ты помнишь, как все начиналось?
Два катаклизма, несомненно, роднит то, что без тлетворного влияния извне не обошлось. В 1998-м нам «подложил свинью» Восток, а в 2008-м — Запад. Впрочем, если кризис в Юго-Восточной Азии, разразившийся в 1997-м, стал спусковым крючком, то почву для дефолта мы подготовили уже собственными руками. В конце прошлого века в связи с реформами и беспомощностью экономики налоги собирались из рук вон плохо, бюджет хронически трещал по швам. Латать дыры мы пытались самым простым, но не самым эффективным способом — заимствованиями. Мы воздвигли такую пирамиду ГКО, по сравнению с которой любая «МММ» покажется куличиком в детской песочнице. Подсев на кредитную иглу, Россия покрывала старые долги за счет новых.
Впрочем, инвесторы, в том числе и иностранные, с удовольствием играли с нашим государством в азартную игру. Еще бы — ведь доходность по ГКО в некоторые моменты доходила до 150%. Но после азиатского кризиса желание рисковать у западных финансистов исчезло, и капиталы устремились прочь с развивающихся рынков. Конструкция рухнула. К апрелю 1998-го бюджет начал работать исключительно на ГКО. Накануне 17 августа казна выплачивала по $1 млрд в неделю по старым облигациям, а покупать новые инвесторы перестали. Задолженность в несколько раз превысила резервы. Дефолт был неминуемым.
Нынешний катаклизм развивался по совсем иному сценарию. Всего за несколько месяцев до того, как Россию накрыла волна, члены правительства и многочисленные эксперты говорили о кризисе как о зарубежной страшилке. Их трясет, а нам не страшно. Естественно, а что будет с островком стабильности? Нефтяные цены летом 2008-го побили все возможные рекорды, взлетев до 140 долларов за баррель, госдолг ужался до практически мизерных показателей — 32,6 млрд долларов, а золотовалютные резервы достигли почти 600 млрд долларов.
Но американский кризис медленно, но верно перерос в мировой, и уже в таком формате не мог не коснуться России. В августе волна накрыла и островок стабильности. Снижающийся в мире спрос на топливо уронил цены на наш основной экспортный товар, а
Давай сделаем это по-быстрому?
После дефолта 1998-го Россию накрыл тайфун — резкий и разрушительный: ВВП упал на 5,3%, рубль к концу года обесценился на 218%. В результате удорожания валюты мы получили всплеск цен на 84,4% против 11% в 1997-м. Число безработных (по методологии МОТ) к концу декабря 1998-го увеличилось почти на 10% и составило 8,9 млн человек. За чертой бедности оказались 35 млн человек, то есть примерно четверть населения. Люди в панике бросились изымать вклады из банков и скупать валюту. В результате банковская система оказалась в руинах. Поэтому неудивительно, что большинство населения в ходе опросов заявляло, что пострадало от кризиса. Жизнь страны и каждого из нас перевернулась. Если ты не потерял работу, то мог считать себя счастливчиком.
Впрочем, тогда мы, как резко упали, так же резко и начали подниматься. Спасибо благоприятной внешней конъюнктуре и низкому курсу рубля. Развитые страны, в том числе основной потребитель — США, переживали подъем, поэтому наши экспортные товары приносили хорошую рублевую прибыль. Да и российские производители, воспользовавшись резкой девальвацией, в ходе которой импортные товары стали недоступными для населения, оживились. В итоге уже в 1999 году экономика страны выросла на 6,4%, а инфляция замедлилась до 36,5%.
Сейчас все по-другому. По экономическим показателям на конец прошлого года вообще могло бы показаться, что в стране дела обстоят неплохо. Так, по итогам 2008-го ВВП подрос на 5,6%, инфляция хоть и не уложилась в прогнозные рамки, но удержалась на уровне 13,3%. При этом доходы населения в номинальном выражении даже росли. Конечно, по ним сильно ударила девальвация, которая стартовала в ноябре, но благодаря возможности Центробанка поддерживать курс за счет золотовалютных резервов, она оказалась плавной — с августа по январь рубль ослаб на 25,5%. Массовые денежные вливания со стороны ЦБ защитили также и банки, в том числе и от бегства вкладчиков.
Не желая устраивать шоковую терапию для граждан, правительство оказало медвежью услугу экономике в целом. По итогам семи месяцев ВВП рухнул на 10,1%. Промпроизводство за полгода упало на 14,8%. Впрочем, как убеждают нас чиновники, по итогам года все будет не так плохо. Снижение ВВП составит 8—8,5%, инфляцию и вовсе обещают удержать в 13%. Но только время может показать, насколько ожидания совпадут с реальностью. И не появятся ли новые жертвы первого кризиса тысячелетия.
Чему нас научил 98-й год
Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН:
— У кризиса 1998 года и нынешнего кризиса есть и сходства, и различия. И первый, и второй кризисы обусловлены неверной философией экономической политики — чем меньше государства, тем лучше для экономики. В России в 1998 году была наивно инфантильная преданность идеалам «свободного рынка». Существовала установка на то, что лучше не печатать деньги, а предоставить решение проблем рынку. В 1998 году было банкротство рыночного фундаментализма в России, теперь это произошло в мире. И в обоих случаях — тут я согласен с Бараком Обамой — главной причиной произошедшего стал триумф «культуры безответственности».
Обнаружилось, что только государство может возобновить экономическую активность. Наши власти, как и власти других государств, вынуждены с этим смириться, несмотря на сохраняющуюся преданность идеалам «свободного рынка». Только государственная активность может спасти экономику, например, накачиванием ликвидности. Но властям так и не удалось облагородить примитивную структуру российской экономики. В 1998 году резкое снижение цен на нефть привело к падению рубля. Вот и сейчас его судьба по-прежнему зависит от мировой цены на нефть.
Агван Микаелян, генеральный директор консультационной компании «Финэкспертиза»:
— Ничего общего между кризисом 1998 года и нынешним кризисом нет. В 1998 году государство не имело достаточного количества доходов, чтобы удовлетворять свои нужды. Россия набрала слишком много долговых обязательств. Мы надеялись расплатиться за счет высокой цены на нефть, но этого так и не произошло. Сейчас внутренних резервов страны хватит минимум на два года. У нас есть деньги, с помощью которых мы можем поддержать те же банки и уберечь их от банкротства. Тем не менее уроки из кризиса 1998 года были извлечены. После 1998 года наше государство осознало, что нужно копить деньги. Спустя 2—3 года после кризиса стали создавать государственные резервы. Средства просто закладывались в кубышку. Кризис научил нас гасить свои задолженности заранее. России удалось сохранить около 30—40 миллиардов долларов на том, что кредиты были выплачены до конца назначенного срока.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики:
— Кризис 1998 года и нынешний кризис малосравнимы. Дефолт 1998 года был вызван наполовину внутренними, наполовину внешними факторами. Россия находилась в фазе трансформационного кризиса. Наблюдался дефицит федерального бюджета. У страны был огромный внешний долг. Мы были просто некредитоспособны. Цена на нефть колебалась в коридоре 8—12 долларов за баррель. Сейчас сложно представить такую ситуацию.
Нынешний кризис в России вызван мировым финансовым кризисом. Он порожден падением спроса на экспортную продукцию. Это внешний фактор, но есть еще и внутренний. В стране инфляция, которая вызвана сложными отношениями бизнеса и властей. Бизнесу проще вкладываться в иностранные активы, а не в российскую экономику. Это делает кризис более сложным. Но тем не менее в стране уже другая ситуация, нежели в 1998-м. Россия на протяжении многих лет получала крупные доходы от экспорта углеводородов. Именно это позволило накопить много резервов, которые помогают сейчас справляться с кризисом. Для того чтобы справиться с кризисом, предстоит сделать еще много. Но такой сложной ситуации, как в 1998 году, не будет.
Главный урок 90-х, который смогли вынести наши власти, — это необходимость ответственности. Лица, которые руководят государством, должны брать на себя ответственность за непопулярные решения. Они должны предпринимать те действия, которые могут обеспечить развитие страны в кризис.
Анна КАЛЕДИНА, Екатерина ПЕТУХОВА