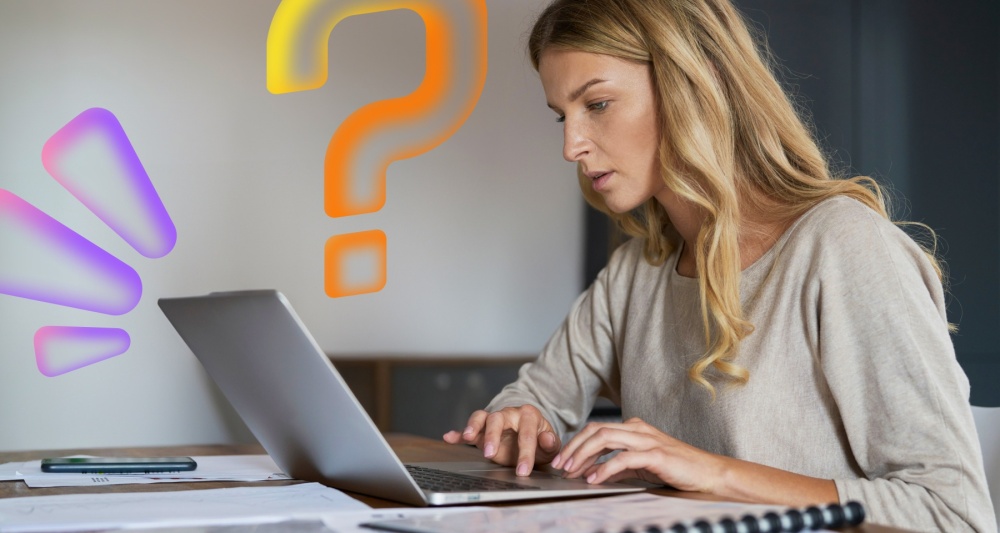Если верить Росстату, в последние месяцы рост цен в стране практически остановился. По итогам 2011 года потребительская инфляция может оказаться рекордно низкой — около 7%. Это все еще слишком много, чтобы у нас появился полноценный долгосрочный кредит. Ни эксперты, ни власти не ждут приемлемых для развитой страны 2—3% раньше, чем через 10—20 лет.
Новые рекорды
Четвертый месяц подряд, судя по данным Росстата, потребительские цены не растут, а даже чуть-чуть падают. В годовом исчислении за это время темпы роста инфляции сократились с 9,5% до 7,2% в год (см. график 1). Ниже они были лишь летом 2010-го, но недолго: засуха, пожары и неурожай привели к росту цен на продовольствие.
«Инфляция в 2011 году составит около 7%, что лучший результат в современной России»,— сказала глава Минэкономики Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме «Россия зовет». Предыдущий рекорд фиксировался в 2009 и 2010 году — 8,8%.
А по прогнозу первого заместителя председателя ЦБ Алексея Улюкаева, еженедельные темпы инфляции в октябре составят 0,1%, в ноябре и декабре — 0,2%. Некоторое ускорение связано с происшедшим «частичным ослаблением валютного курса». Это позволит «с запасом уложиться в заявленные 7% инфляции». Оперативные данные Росстата свидетельствуют о том, что Улюкаев даже недостаточно оптимистичен: в начале октября инфляция была нулевой. К тому же на валютном рынке снижение рубля опять сменилось укреплением, а значит, этот фактор может и не сыграть в полной мере.
Похоже, что удается одержать маленькую победу в войне с инфляцией, которую Россия ведет уже 20 лет. В начале 90-х, когда годовые темпы инфляции составляли несколько сотен и даже тысячу процентов в год, а полученные утром деньги уже к вечеру частично обесценивались, экономисты иногда спорили, что называть гиперинфляцией, а что — галопирующей инфляцией. Эти споры, к счастью, ушли в историю, но снизить рост цен ниже уровня примерно 10% долго не удавалось.
Точно так же из года в год не удавалось и выполнить правительственный прогноз — его приходилось многократно корректировать. Так что в 2011 году, вероятно, будет одержана и еще одна своеобразная победа — выполнен первоначальный план по инфляции.
Урожайный год
Победы могло бы и не быть. По данным ЦБ, темпы роста денежной массы М2 все еще выше 20%, это теоретически может создавать предпосылки для куда более высоких темпов инфляции. Впрочем, темп роста агрегата М2 ощутимо замедляется (см. график 2): ЦБ все же всерьез относится к своей работе.
Помогло и несчастье — гигантский отток частного капитала (около $50 млрд с начала года). Это замедлило рост денежного предложения, рост цен на российские активы и спасло российскую экономику от возвращения на докризисную траекторию перегрева.
Определенный вклад внесла и дорогая нефть. Благодаря высоким ценам на нее рубль всю первую половину года укреплялся, что сдерживало рост цен на импорт. Недавнее же ослабление еще не успело отразиться на росте цен и к тому же уже частично отыграно.
Повезло российским властям и с низкими темпами экономического роста. Относительно высокая безработица и вялая ситуация на рынке труда привели к стагнации реальных доходов и зарплат. А значит, ослабло и давление на цены со стороны спроса.
Еще один существенный фактор — как бы это ни было странно читать в обзорах экспертных центров и инвестиционных банков — хорошая погода и высокий урожай. «В начале финансового кризиса в 2008—2009 годах многие товары стали дефицитны на мировом рынке, и цены на продовольствие пошли вверх, что в значительной степени отразилось на России,— напомнил ведущий эксперт ЦМАКП Игорь Поляков.— В 2010 году рост цен на продовольствие усугубил крайне неудачный урожай. Но в текущем году урожай хороший, цены пошли вниз».
Заметим, что если обратиться к подробным данным Росстата, то окажется, что инфляция могла бы быть и значительно ниже. За первые девять месяцев года рост цен составил 4,7%, при этом продукты подорожали лишь на 1%, потребительские товары — примерно на 4%, зато услуги ЖКХ и топливо — примерно на 11%, алкоголь, табак и транспорт — на 8%. Иными словами, главный вклад в относительно высокую инфляцию внесли регулируемые (в той или иной степени) цены, а главный вклад в снижение — рыночные.
Власти, кстати, отдают себе отчет в том, что именно они — главные виновники высокой инфляции. В связи с этим любопытно решение властей о перенесении повышения части регулируемых тарифов и акцизов с 1 января на 1 июля 2012 года. Несмотря на явно предвыборный характер этого нестандартного для России хода, у него есть и экономический смысл. Таким образом впервые в российской истории, возможно, получится частично избавиться от традиционного скачка инфляции в январе-феврале.
Полностью, скорее всего, не получится: «отыграет» другая традиционная российская проблема — «бюджетный навес», так принято называть практику, когда непропорционально высокая доля бюджетных расходов спешно исполняется в конце года.
И все же — было это в голове у чиновников или нет — может получиться снижение инфляционных ожиданий у населения и предприятий, что само по себе можно рассматривать как антиинфляционную меру. Заодно и протестировать: применимы ли результаты работ экономистов Томаса Сарджента и Кристофера Симса, нобелевских лауреатов 2011 года, к российским реалиям. Среди их заслуг — анализ и описание того, как ожидания формируют будущую реальность.
Такая разная инфляция
Реальность, впрочем, в том, что касается экономических индикаторов, штука относительная. Например, в нынешних 7% многие сомневаются, и сомневаются не только обыватели, но и депутаты Госдумы (см. вынос). Им стоит напомнить, что показатель инфляции, как и большая часть других данных статведомства, это некая абстракция.
Росстат рассчитывает его как рост цен на корзину определенных товаров, где, например, продовольствие занимает сейчас 30,7%, а, положим, образование — лишь 1,7%. То есть если у вас большая часть доходов уходит на еду, то для вас инфляция не проблема (зато, судя по структуре потребления, проблема — бедность). А если подрастают дети или питаться вы предпочитаете не дома, а в ресторане, то ваша личная инфляция много выше.
Или вот, например, проблема из недавнего прошлого. До 2008 года, пока на протяжении нескольких лет рост доходов (в номинальном выражении) составлял 25—30% в год, мало кто был готов поверить в инфляцию в 10—15%, личный потребительский опыт говорил, что она много выше, а статистика лжет. Напрасно: просто происходило переключение на более дорогие товары и услуги, вместо оптового рынка — фирменные магазины, вместо турецких штанов — итальянские. Менялась и структура личной потребительской корзины, в частности в пользу товаров, которые дорожали быстрее, включая, к примеру, недвижимость.
Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что у инфляции не один показатель, а довольно много: не только индекс потребительских цен, но и промышленных, по разным отраслям и группам товаров, с учетом сезонности и без. Все они используются экономистами для описания разных проблем, но ни один из них они в абсолют не возводят.
Снижать нельзя оставить
На вышеупомянутом форуме нынешний премьер Владимир Путин подчеркнул, что «правительство и в дальнейшем продолжит снижать инфляцию, так как это очень важно для инвесторов и граждан России». Кандидат экономических наук Путин, скорее всего, знает ответ на вопрос: «Почему?» А может, как и многие другие, за двадцать лет борьбы подзабыл, а антиинфляционную мантру произносит по привычке. Потому что иначе вряд ли согласился бы с ростом расходов бюджета и не допустил бы увольнения цербера фискальной дисциплины — экс-главы Минфина Алексея Кудрина.
Часть аргументов «за» — из учебника. Инфляция — дополнительный налог. И особенно тяжел он для самых бедных, у богатых больше возможностей защитить свои сбережения и уровень потребления от роста цен.
Чем выше инфляция, тем сложнее инвестировать. Слишком трудно, если вообще возможно, оценить окупаемость инвестиций. Кредиты на длительный срок (а как без них построить, к примеру, большой завод?) становятся как минимум проблемой. Причем и для банка, и для заемщика. Первому крайне трудно оценить свои риски, у второго возникает проблема — номинальные процентные платежи слишком высоки. Это легко понять любому, кто задумывался об ипотечном кредите: в первые годы приходится платить почти исключительно проценты (само «тело» кредита выплачивается в основном в последние годы).
Еще одна проблема: высокую инфляцию почти всегда трудно предсказать, отсюда — дополнительные риски и более высокий уровень реальной процентной ставки (номинальная минус инфляция). Это еще одно препятствие для бизнеса, особенно нового, еще один канал перераспределения ресурсов от потребителя к финансовому сектору.
Увы, за двадцать лет мы так привыкли к инфляционному непотребству, что многие готовы с ним мириться, а то и оправдывать. «Что касается предпринимательской активности, то можно и при 7-процентной инфляции открывать бизнес. В этом отношении нет большой разницы — 7% инфляция или 10%»,— утверждает гендиректор завода имени Попова, член генсовета «Деловой России» Иван Поляков. Он уверен, что «нынешний уровень инфляции не может быть угрозой для экспансии российских компаний на зарубежные рынки», а «модернизации предприятий и переоснащения основных фондов нет
А бывший председатель совета директоров Deutsche Securities, кандидат экономических наук Михаил Мошиашвили говорит, что «разговоры про инфляцию как сдерживающий фактор экономического роста и модернизации экономики похожи на заклинания».
Впрочем, и они, и другие собеседники «Денег» указывают на другие риски и препятствия для бизнеса, другие побудительные мотивы. «Если в уравнении нет государства, то в бизнес дальше трех лет никто не смотрит,— говорит Мошиашвили.— Можно смотреть на пять лет, если это в рамках какого-то частно-государственного партнерства, которое подразумевает поддержку государства со стороны ВЭБа или каких-либо других институтов. То есть только если государство берет часть рисков на себя».
Еще один аргумент против борьбы с инфляцией: якобы 7% — практически естественный уровень. «Наша экономика нефтяная, коррупционная и неэффективная. А каждый из этих параметров добавляет к нормальному уровню инфляции минимум 1—2%,— говорит Мошиашвили.— 7-процентная инфляция — это нулевой уровень инфляции для российской экономики при неизменности ее структуры. И достижение 7% говорит о том, что катастрофически упал промышленный и производственный спрос, а экономике грозит стагнация».
«Для России в ближайшее время приемлемый уровень инфляции — 5—6%, для Европы, конечно, этот показатель несколько ниже — 2—3%»,— сказал начальник отдела доверительного управления Абсолют-банка Иван Фоменко.
Впрочем, правительственные экономисты говорят, что ждать европейских стандартов инфляции осталось не так уж и долго. Согласно прогнозам Минэкономики, уже к 2015 году Россию ждет инфляция в 5,1%, к 2020-му — в 3,4%, а к 2030-му — в 2,5% годовых. Жаль, что в Белом доме пока не умеют предсказывать погоду на такой срок.
Какая инфляция нам нужна?
Евгений Федоров, депутат Госдумы, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, фракция «Единая Россия»:
— Инфляция в последние годы снижается, но она зависит от объективных факторов. Низкая инфляция — свидетельство зрелости экономики. И мы к этому постепенно идем. Еще десятилетие назад инфляция была в десятки раз выше, чем сейчас. Планы по дальнейшему снижению инфляции означают необходимость наводить порядок в вопросах экономики, финансов, собственности.
Экономика — наука с многочисленными сложными показателями, и от одного фактора не так много зависит. Но снижение инфляции влечет за собой снижение процентных ставок, что оказывает благоприятное влияние на кредитование и производство.
Оксана Дмитриева, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, фракция «Справедливая Россия»:
— Во-первых, информация о том, что инфляция всего 7% в год, основана на данных Росстата. Всемирный банк приводит несколько отличные цифры — 8—9%. Во-вторых, колебание инфляции на 1% туда-сюда — не очень принципиально для экономики.
Население мало что выигрывает при нынешних темпах инфляции. Если сопоставить инфляцию и доходы населения, то первая составляет 7%, а вторые — заморожены. А в прошлом году зарплата бюджетников имела отрицательный рост в реальном выражении. Когда доходы не растут, а тебя утешают, что инфляция всего 7%, то от этих утешений ни жарко ни холодно.
Вообще, борьба с инфляцией была любимым делом нашего бывшего министра финансов. Но боролись прежде всего с монетарной инфляцией, а у нас инфляция носит немонетарный характер. Основным источником инфляции остается рост тарифов естественных монополий и на услуги ЖКХ. Есть разные методики оценки, но тарифная составляющая в инфляции доходит до 20—30%. Всплеск тарифной инфляции традиционно приходился на сентябрь, но в этом году повышение отодвинули на лето, на «после выборов».
Владимир Улас, депутат Госдумы, член комитета по бюджетам и налогам, фракция КПРФ:
— Величина инфляции — это ключевой параметр, за который бьются центробанки, чтобы он не вышел за 1%, максимум — 1,5%. 7% — очень много.
Если оценивать уровень инфляции с точки зрения пенсионной системы и накопительной ее составляющей, то нынешний уровень неприемлем, так как при нем обесцениваются сбережения, а вся накопительная функция пенсионной системы теряет смысл.
Если смотреть на инфляцию с точки зрения ипотеки, то для того чтобы молодая семья могла обзавестись жильем, инфляция должна быть на уровне 2—3%. А раз официальная инфляция 7%, а реальная — 9%, то банковский кредит дешевле 12% получить нельзя. По таким ставкам кредитоваться невозможно. Это относится не только к ипотеке, но и к любому другому делу, к бизнесу.
Важнейший фактор высокой инфляции — повышение тарифов на услуги монополий на 15—20% в год. А также фактор зависимости от импортной продукции. Если вы ничего не производите, а большая часть потребления составляет импорт, то при колебании валютных курсов цены на продукты, одежду, автомобили поднимутся.
Павел Медведев, депутат Госдумы, член комитета по финансовым рынкам, фракция «Единая Россия»:
— Несмотря на достигнутый относительно низкий уровень, инфляция продолжает оставаться избыточной и едва терпимой. 7-процентная инфляция слишком велика по сравнению с нормальным уровнем до 3%. Нынешний уровень инфляции усиливает кредитные риски и тем самым ограничивает кредитование бизнеса. Оказывает влияние и волатильность инфляции: при инфляции 2—3% колебания в 0,5% не очень значительны, но колебание в коридоре 7—10% уже существенно для заемщика и кредитора.
Несмотря на нынешнее снижение, нет уверенности в том, что инфляция не станет расти снова. Цены будут расти, и тем более на импортные товары,
Максим КВАША, Евгений СИГАЛ