
Прибывающие в Европу беженцы — не только головная боль для властей и местных жителей, но и потенциально интересный рынок для финтех-стартапов и самых продвинутых банков. Через эмигрантов современные технологии проникнут и в старую скучную Европу.
У ситуации с беженцами в Европе много измерений — от политического до криминального, от гуманитарного до предпринимательского. О них много говорят политики, пишет пресса, обсуждают пользователи социальных сетей. Но одно из «измерений» остается как бы за кадром, хотя и представляется если не принципиально важным, то, по крайней мере, интересным. Особенно для людей, связанных с финансами. Кто и как будет обслуживать деньги беженцев? Это не такой скучный и технический вопрос, как может показаться. Более того, при определенном раскладе ответ на него может изменить лицо банковского бизнеса всей Европы.
Миллионы прибывающих из Африки и Азии в Европу людей становятся мощным вызовом для местной банковской системы. С одной стороны, это большой и потенциально выгодный новый рынок: банковский бизнес в развитых европейских странах давно поделен и стабилен, а тут — обильный приток свежих клиентов, которых не надо «перекупать» у конкурентов. А получаемая ими государственная финансовая помощь — отличный источник денег для текущих счетов. Со временем большинство беженцев так или иначе обживется, кто-то запустит свой бизнес, кто-то захочет кредит на квартиру, кто-то родит десяток детей и будет ежемесячно получать тысячи евро от государства — и, очевидно, не наличными. Всем им понадобятся банковские услуги.
С другой стороны, эти клиенты часто имеют мятую бумажку вместо документов, не говорят ни на немецком, ни хотя бы на английском и весьма смутно представляют работу современных западных банков. Классическая ситуация: большие возможности сочетаются с большими рисками.
Европейские банки все это хорошо понимают и осторожно присматриваются к новому рынку. Массово открывать счета, запускать отделения в лагерях для беженцев или раздавать направо и налево кредиты, понятно, никто не будет. Тут дело не только в коммерческих рисках, но и в отношениях с государством. Принцип «знай своего клиента» ради беженцев никто не отменял, и если случайно откроешь счет или выдашь кредит террористу — потом не отмоешься. Родное государство, столь радостно приветствующее поток прибывающих, замучает штрафами и проверками.
У финансовой работы с беженцами в Европе есть еще один важный аспект, который может поменять всё. Для большинства прибывающих современный банковский бизнес — нечто совершенно новое, а значит, они не имеют сформировавшихся привычек, представлений о том, как он должен быть устроен, передающихся из поколение в поколение знаний о счетах, кредитах, способах доступа к деньгам — как у людей, выросших в развитых странах.
Чтобы было понятнее, о чем речь, вспомните ситуацию в России в 1990-х — начале 2000-х: когда американцы еще вовсю рассчитывались чеками, у нас использовались карты (и даже чиповые), позже начал бурно развиваться интернет-банкинг и совсем уж диковинный для Запада зверь — электронные деньги, не привязанные к банковским счетам. При этом качество и новизна оборудования и софта в банках поражали иностранных специалистов. Секрет прост: ни у бизнеса, ни у потребителей за плечами не было груза плавного развития технологий в течение десятилетий и необходимости переносить привычные решения из поколения в поколение. Россия сразу перескочила из «каменного века» со сберкнижками в сберкассах в XXI век с «Яндекс.Деньгами» и интернет-банком.
Все начиналось «с чистого листа», поэтому можно было использовать самые современные на тот момент идеи, компьютеры, программы, продукты и внедрять их массово, не заботясь о том, что кто-то будет ворчать: мол, всю жизнь зарплату платили чеками, зачем все эти новшества с картами и Интернетами. Нечто подобное наблюдалось уже в 2000—2010-е в некоторых бедных странах Африки, где банковский бизнес перескочил сразу в «мобильный век», опережая в этом деле и Европу, и США (хотя, конечно, отстал во многих других компонентах).
Нынешние беженцы в Европе в существенной степени такие же потребители «с чистого листа», как россияне в 1990-е. Конечно, и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане, и в Эфиопии были и есть банки, как были они и в СССР. Но вряд ли их уровень развития и проникновения в бытовую жизнь можно сравнивать с ситуацией в «первом мире», где человек без счета вообще не может полноценно существовать. Такое положение дел дает возможность приобщить беженцев не просто к банковским услугам, а к самой передовой их части — тому, над чем работают многочисленные потребительские финтех-стартапы.
Что-то в этом отношении уже делается: в некоторых лагерях беженцев начинают раздавать бесконтактные «наличные» карты (eCash), на которые администрация зачисляет финансовую помощь. Сейчас большинство беженцев получает эту помощь в виде бумажных ваучеров, которые довольно сложно потратить: предприниматели берут их неохотно и еще более неохотно дают с них сдачу деньгами, что означает, что цены товаров «округляются» под номинал ваучера — естественно, в сторону повышения. Карты же принимаются спокойно, а завышать стоимость товара под предлогом «нет сдачи» уже не получится. Следующий этап этой же программы — зачисление денег на смартфоны с функцией NFC-платежей, так как дешевыми моделями таких смартфонов владеют многие беженцы.
Как только ситуация с уже приехавшими беженцами немного утрясется, за них наверняка всерьез возьмутся разработчики мобильных приложений: сделать простой интерфейс к счету и базовым банковским функциям на родном для беженца языке и с учетом культурных традиций всяко проще, чем перестраивать работу целых банков. Плюс дополнительный толчок получит индустрия трансграничных переводов — понятно, что деньги из Европы потекут оставшимся на родине семьям и бизнес-партнерам (или террористическим организациям, но кто следит). А тут и биткоин с блокчейном пригодятся.
Европейскую общественность, за редким исключением, тяжело «раскачать» на принятие финтехнологических новинок — в Германии и карты еще не везде принимают. Поэтому для стартапов и заинтересованных в развитии банков беженцы могут стать своего рода «испытательным полигоном», где будут отработаны новые технологии. А потом — уже в готовом и опробованном виде (с поправкой на язык и отдельные культурные особенности) их можно внедрять на массовом рынке.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции


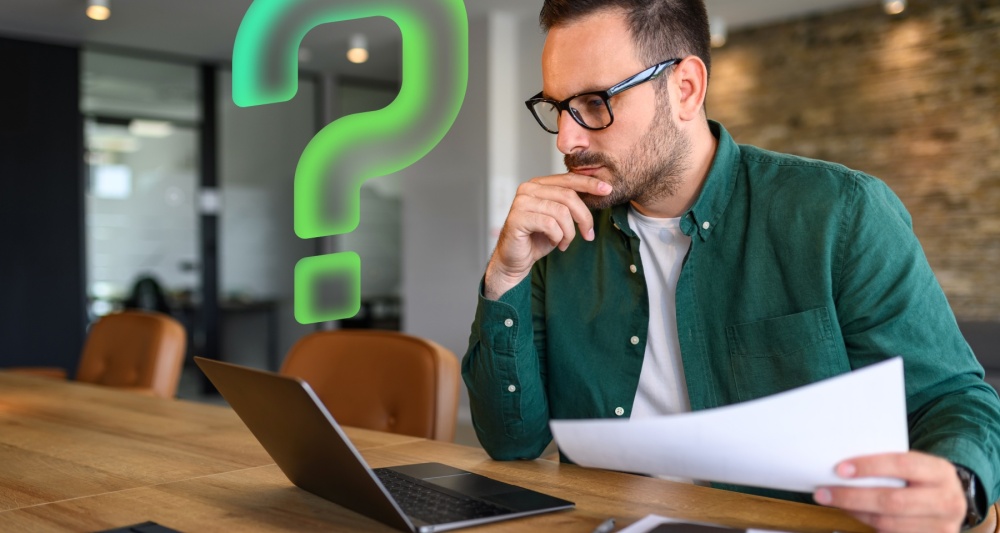








Комментарии
"Глубокая вера" по отношению к мешающим жить ритуалам обычно заканчивается вместе с действием соответствующего закона и при отсутствии специально обученных органов правопорядка. В Европе десятки миллионов "местных" мусульман, они прекрасно обслуживаются в обычных банках. Как и в России, кстати.
Ну вы Артём отжигаете. Из стран третьего мира погрязших в нищете и войнах, которые даже калькуляторы то увидели только в этой смой Европе.
Попробуйте читать тексты дальше первых двух строк.
Попробуйте не выделять громкие заголовки, если смысл мелкими буквами совсем другой!