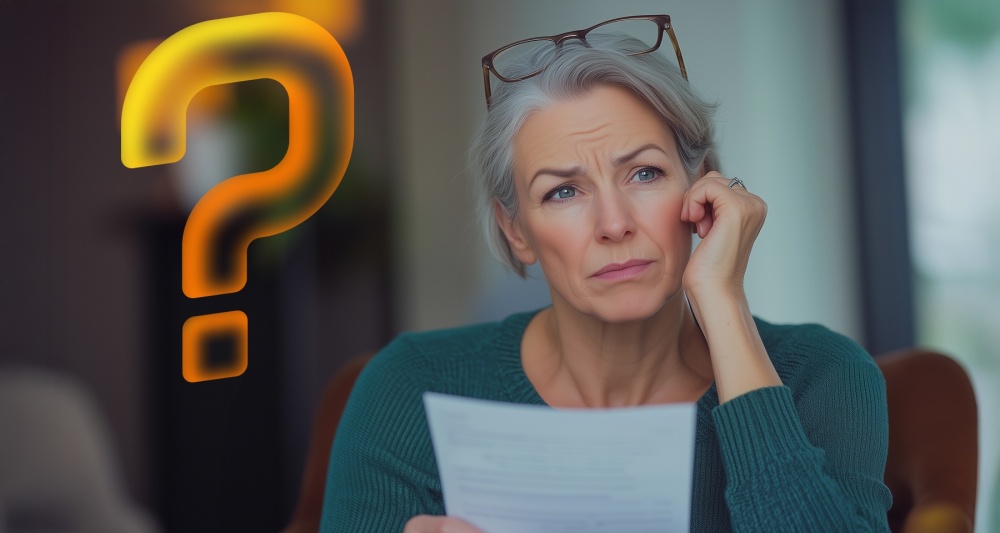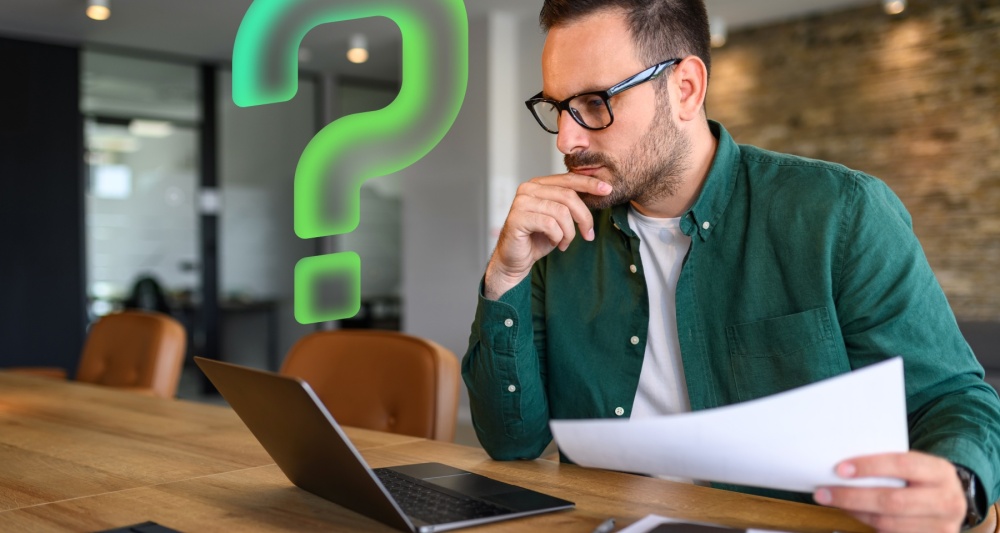Сообщение первого зампредседателя Центробанка РФ Алексея Улюкаева о том, что в 2015 году будет отменен «валютный коридор» и окончательно введено «инфляционное таргетирование», не вызвало бурной реакции в прессе и народных массах. Во-первых, по нынешним нестабильным временам 2015 год — это очень далекое будущее; во-вторых, по большому счету ни курс рубля, ни рост цен никого не волнуют; в-третьих, остаются серьезные сомнения в том, что у Центробанка есть инструменты для управления инфляцией в случае серьезных потрясений.
Валютный коридор, то есть границы, внутри которых может колебаться курс рубля, со времен острой фазы кризиса достаточно условен. По нынешним правилам колебания курса бивалютной корзины допускаются в пределах плюс-минус 3,5 рубля от 35,15 рубля за корзину (сейчас она стоит 34,99 рубля). Учитывая, что доллар и евро обычно колеблются разнонаправленно, сдвинуть корзину до 38,65 рубля весьма сложно, для этого должно произойти
Как я не раз писал в предыдущих колонках, колебания курса рубля слабо влияют на обычную бытовую жизнь россиян, поэтому ни за самим курсом, ни за «курсовыми» действиями ЦБ почти никто не следит. Разве что кроме тех, кто собирается о обозримом будущем купить какую-то дорогую импортную вещь, чья цена определяется в долларах или евро. Получается, что к 2015 году тема валютных курсов окончательно перейдет в сферу профессиональных интересов участников внешнеторговой деятельности и спекулянтов. И это правильно.
С инфляцией ситуация несколько сложнее. Потребительские цены, изменение которых традиционно используется в качестве меры инфляции, непосредственно влияют на жизнь каждого россиянина. Но в последние годы за счет действия разных факторов — как зависящих от российских властей, так и нет — рост цен остается на относительно комфортном для жителей страны уровне. Не так важно, подорожали товары и услуги в среднем на 6% или на 8% — главное, что не на 15—20%. К тому же и доходы большей части населения (особенно традиционно бедных слоев, зависящих от социальных выплат и государственных зарплат) растут быстрее, чем цены.
Однако при таргетировании инфляции Центробанк в будущем столкнется с двумя проблемами. Первая касается, пожалуй, только специалистов и участников различных финансовых рынков. Дело в том, что таргетирование подразумевает предварительное обозначение того самого «таргета», или, говоря по-русски, цели. То есть ЦБ должен еще до начала очередного года спрогнозировать «естественный» (без его воздействия) уровень инфляции, «запланировать» свой уровень и потом действовать так, чтобы сдвинуть этот «естественный» уровень к «плановому».
Но практика показывает, что ни сам ЦБ, ни другие российские финансовые власти не в состоянии более-менее точно прогнозировать уровень инфляции. Например, в конце прошлого года тот же Алексей Улюкаев говорил, что в 2012 году инфляция в России составит 5—6%. Сейчас ЦБ обещает 6,3% на конец года, но этот прогноз представляется очень оптимистичным: скорее всего, по итогам года мы увидим рост цен на 6,5—7%. Фактически ЦБ «промахнулся» примерно на 1 процентный пункт, что в текущих условиях довольно много. Это не так важно для населения, но важно для рынков. Соответственно, возникает вопрос доверия к Центробанку со стороны участников рынка. Насколько адекватны прогнозы ЦБ? Не вызваны ли они в большей степени политическими соображениями, чем реальной экспертной оценкой?
Вторая проблема, касающаяся уже непосредственно населения, связана с самой возможностью управлять инфляцией с помощью мер, имеющихся в распоряжении Центробанка. Рост цен в России вызван далеко не только финансовыми процессами, на которые может влиять регулятор. Сколько ни повышай ставку рефинансирования (которая у нас практически ни на что не влияет), сколько ни управляй уровнем ликвидности с помощью операций РЕПО и аукционов, но при двузначном росте цен на электричество, газ и прочие услуги естественных монополий удержать инфляцию на требуемом уровне невозможно. Кроме того, при относительно открытой экономике цены на товары зависят и от внешних рынков: подорожание продовольствия на биржах в далекой Америке запросто может прибавить процентный пункт-другой к российской инфляции.
В нашей экономике здоровый внутренний бизнес занимает очень небольшую часть. В основном она состоит из окологосударственных и просто государственных монополистов с одной стороны, огромного экспорта — с другой и огромного импорта — с третьей. В условиях таргетирования инфляции Центробанк имеет очень ограниченное воздействие на все три эти «сектора». В данный момент все более-менее стабильно и нормально, поэтому инфляция относительно низка и регулируема со стороны ЦБ. Но внешние обстоятельства могут измениться, в результате чего индекс «естественной» инфляции, например, скакнет на 3—5 процентных пунктов. Но в руках Центробанка просто нет рычагов воздействия на темпы роста цен при таком раскладе, он может «рулить» ценами в пределах лишь десятых долей процента в год или чуть больше. О каком инфляционном таргетировании можно говорить в таких условиях?
В целом, на мой взгляд, Центральный банк поступает правильно, меняя цели своей политики на более прогрессивные. Но с учетом объективного состояния экономики страны и способов, которыми она управляется, ЦБ может оказаться слишком прогрессивным в своих действиях. И в определенный момент его «поправят», приведя в соответствие с окружающей действительностью. Поэтому я бы не стал делать ставку на то, что переход на инфляционное таргетирование — это всерьез и надолго.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции